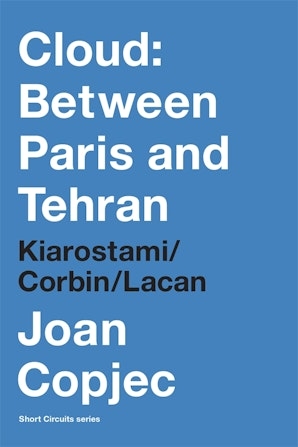Земля. Смотреть фильмы Киорастами с Лаканом
Известно, что в основании модерна лежит окончательный разрыв с авторитетом предков, который больше не воспринимался в качестве примера для поступков или основания убеждений.
Однако, вопреки ожиданиям, предположительно пластичный человек модерна обнаружил, что в чем-то застрял; что-то вырывает его из свободно протекающей современной жизни. Как будто в мире модерна необъяснимым образом открылась сливная дыра, придав нашему мимолетному «временному существованию… невыразимый привкус абсолюта» и породив «острое чувство того, что нас крепко держат»[1]. То, что подобное сковывание или ретерриториализация является странным фактом современной жизни, а не просто теоретической абстракцией, наиболее наглядно подтверждается всеми упрямо повторяющимися волнами национальной, этнической, расовой и религиозной лояльности именно в момент, когда такие лояльности, как ожидалось, будут растворены детерриториализирующим натиском глобального капитализма.
Подрыв авторитета предыдущих поколений поставил нас перед другой проблемой: как будто, обвинив наших предков в совершении массы ошибок, мы превратили прошлое из склада уже свершившихся событий и открытых истин в своего рода камеру хранения для всего, что не было реализовано и не было продумано. Внезапно желание наших предков и, таким образом, виртуальное прошлое, прошлое, которое сбылось или еще не завершилось, стало тяготить нас.
Теоретизация этого незавершенного прошлого была сосредоточена на Западе вокруг концепции тревоги[2]. Если казалось необходимым теоретически примириться с тревогой — как это было среди прочих у Кьеркегора, Фрейда и Хайдеггера, — то только потому, что данный аффект свидетельствовал об изменившемся отношении к прошлому, которое теперь мыслилось как не полностью ушедшее. Предположение о том, что современный человек станет пластичным (рыночным силам или даже силе собственной воли), основывалось на вере в то, что разрыв с авторитетным прошлым поместил ноль в знаменатель наших оснований, укоренил нас или привязал нас к — ровно ни к чему. Но тревога, аффект, возникающий в моменты, когда происходят радикальные разрывы в непрерывности экзистенции, опровергает это предположение; скорее, субъекты обнаруживают себя «не без корней», что существенно отличается от ощущения укорененности в прошлом, в расовой или этнической идентчности, которые прозрачны для нас. Ибо то, что утверждается в опыте прикованности, не является чем-то, что можно объективировать или персонализировать как свое собственное[3]. Напротив, это опыт привязанности «доисторического, … незабываемого Другого», даже если — будучи без атрибутов — он не предлагает нам ничего, что можно было бы вспомнить[4].
Было замечено, что тревога часто настигает революционеров сразу после победы революций и, кажется, не освобождает, а парализует руку, которая будет составлять новую конституцию. Что объясняет этот любопытный феномен? В то время как многие психоаналитики настаивали на том, что тревога является аффективной реакцией на утрату или отказ, Фрейд полагал ничего подобного, поскольку правильной реакцией на утрату была бы скорбь, а не тревога. Подобно Фрейду, упомянутые философы утверждали, что тревога не зависит от какого-либо фактического состояния, хотя бы и утраты, а скорее от «состояния, которого нет». Кьеркегор предлагает иллюстрацию для пояснения этой разницы: чувство тревоги не относится к жалобе «Боже мой, Боже мой, почему Ты меня оставил?», а скорее к мольбе «Что делаешь, делай скорее!»[5] Тревога — это не переживание произошедшей утраты; это переживание некоего надвигающегося события, ожидание чего-то, что, хотя и связано с тем, что нам предшествует, еще не произошло. Это надвигающееся неизвестное, пробуждение возможности, контуры которой неразличимы.
Иными словами, разрыв, установленный модерном, не сделал прошлое полностью мертвым для нас. Он не оставил нас одинокими в настоящем, оторванном от прошлого, но передал нас настоящему, которое ощущалось перенаселенным — не из-за, как обычно говорят, растущей плотности городов или бомбардировки нас все большим количеством новых стимулов, а потому, что мы, казалось, были жертвой избытка, который отказывался нам являться. Тревога — это чувство прилипания к избытку, от которого мы не можем ни отделиться, ни предъявить на него права, чувство привязанности к прошлому, которое, не случившись, не может быть отброшено. Таким образом, наша причастность к прошлому приобрела иной оттенок. Ибо, хотя раньше связи субъекта с его прошлым могли казаться связывающими жестким образом, они воспринимались как внешние, как простые ограничения. Человек должен был подчиниться судьбе, которую он не выбирал и часто воспринимал как несправедливую. Но он мог — подобно Иову или героям и героиням классических трагедий — ругать свою судьбу, проклинать свою судьбу. В эпоху модерна это больше невозможно. «Бог судьбы» теперь мертв, и мы больше не наследуем долги наших предков, но сами становимся этим долгом. Мы не можем в достаточной степени дистанцироваться от желания наших предков проклинать судьбу, которую они нам предназначают, но должны, как выразился Лакан, «принять внушающую ей ужас несправедливость как наслаждение»[6]. «Наслаждение» — примерно эквивалент либидо Фрейда — именует способность изменять свою судьбу. И все же это не та способность, которой мы можем обладать. Это нечто ужасающее; чудовищная инаковость, не находящаяся в нашем распоряжении, но нечто, что нужно выстрадать.
Если мы еще раз подумаем о революционере, чья рука парализована тревогой, мы увидим, насколько близко описание Лакана соответствует описанию тревоги Фрейдом. Если, пораженная тревогой, моя рука бастует, отказывается писать, это потому, что она пропитана либидо, охвачена наслаждением. Моя рука, объясняет Фрейд, ведет себя как служанка, которая, вступив в любовную связь со своим хозяином, отказывается продолжать выполнять свои домашние обязанности[7]. В момент тревоги человек теряет вкус к обычной, рутинной жизни: приготовлению пищи, уборке, всем практическим занятиям. Именно этот автоматический образ жизни парализуется тревогой. Однако эта аналогия, как говорит сам Фрейд, «довольно абсурдна», поскольку она не учитывает реального положения служанки, которая, будучи оторванной от своих мирских обязанностей, теперь связана с ужасным, непостижимым хозяином: своим собственным либидо или потенциальностью. В другом месте Фрейд обойдется без аналогии и определит тревогу более прямолинейно, как страх перед собственным либидо[8]. Как и в случае с Бартлби у Мелвилла — писакой, который объявляет забастовку и отказывается писать, — нас поражает изощренная форма отказа «Я бы предпочел этого не делать», явление потенциальности, которая не разворачивается сама по себе, а проявляет себя только посредством паралича.
Главные герои Аббаса Киаростами демонстрируют паралич такого рода, вызванный их неспособностью понять желания своих предков и, таким образом, свое собственное место в той самой культуре, к которой они, тем не менее, сохраняют чувство анонимной принадлежности. Одно из основных мест в «Ветер унесет нас» (1999) — кладбище, куда Бехзад постоянно ездит, чтобы поймать более устойчивый сигнал сотовой связи, и где Юсеф, могильщик, постоянно копает, оставаясь под землей и невидимым на протяжении большей части фильма. Мы предполагаем, что целью его усилий в конечном итоге является установка телекоммуникационной вышки, но поскольку миссис Малек находится на грани смерти, копание одновременно намекает на подготовку к ее похоронам. То, что кладбище станет местом телекоммуникационных усилий, говорит о тревоге, сопутствующей утрате всяких четких сигналов, исходящих из прошлого, которое остается непостижимым.
В конце концов, Юсеф оказывается завален слоем земли и его нужно срочно выкопать.
Непостоянство земли не является уникальным для этого фильма Киорастами; это константа в его творчестве, где выраженной характеристикой почвы является ее неустойчивость: она всегда проваливается, выгибается, трясется[9]. Почва во многих его фильмах не закреплена, она выдолблена — или, точнее, сделана похожей на катакомбы. В то время как землетрясения являются проблемным географическим фактом жизни в Иране, постоянное обращение Киаростами к этой данности во многих его фильмах превращает ее в факт другого порядка. Это уже не просто местная данность, с которой необходимо так или иначе считаться, она становится культурным фактом, значение которой невозможно раскопать. Подобно прошлому, похороненному в ней, земля в мире Киаростами оказывается активной и изменчивой, неурегулированной проблемой. Как будто в его фильмах само прошлое находится в стадии перестройки.
В фильме «Ветер унесет нас» не только Юсеф остается невидимым для нас на протяжении всего фильма; несколько персонажей — одиннадцать по подсчетам Киаростами — остаются за кадром и, таким образом, невидимыми. На вопрос интервьюера, что означают эти упорно странные визуальные отсутствия, Киаростами ответил, что фильм о «существах без бытия». В фильме «Где дом друга?» (1986) «бытие без бытия» — то есть бытие, которого нет, но которое, оставаясь нереализованным, сбивает персонажей с толку, преследуя их — принимает форму блокнота, который, как уверен юный школьник, не его, хотя он выглядит во всех подробностях точно так же, как его собственный. Он проводит большую часть фильма, безуспешно пытаясь вернуть его, загадочно решая в конце не возвращать его мнимому владельцу. Фактически, у блокнота нет исключительного владельца, но он становится связью между двумя учениками.
В фильме «Вкус вишни» (1997) элемент, вызывающий беспокойство, не принимает форму предполагаемого объекта и вместо этого наполняет фильм озадачивающей текстовой непрозрачностью. Фильм рассказывает о мужчине средних лет, мистере Бади, у которого нет видимых причин для недовольства жизнью (на самом деле далеко не так), и тем не менее он весь фильм ищет сообщника для своего самоубийства, чтобы тот засыпал его двадцатью лопатами земли и затем дважды проверил, действительно ли он мертв. Поэтому мы подозреваем, что мистера Бади беспокоит страх быть похороненным заживо. Как будто он пытается не просто убить себя, но и погасить некий избыток себя, который не отвечает его желаниям и, таким образом, производит на него впечатление способного пережить даже его смерть.
В интервью, посвященном «Вкусу вишни», Киаростами сказал: «Выбор смерти — единственная возможная прерогатива… потому что все в нашей жизни навязано рождением… нашими родителями, нашим домом, нашей национальностью, нашим телосложением, цветом нашей кожи, нашей культурой»[10]. Хотя у г-на Бади нет личных жалоб, повсеместное присутствие милиции, гнетущие свидетельства нищеты и индустриальная пыль, застилающая городской периметр, через который он проезжает, предполагают удушье. Таким образом, его самоубийство можно интерпретировать как попытку избежать удушья, вызванного миром, где личность человека определяется властями, которые не оставляют места для свободы, никаких шансов выбирать, какую форму примет его жизнь. И все же, если то, что навязано нам рождением, так загадочно, как показывают нам фильмы Киаростами, то узаконенную жесткость жизни следует понимать как способ уклонения от более первичного опыта, от тревоги, которая пробуждается в нас при столкновении с нашей способностью вырваться из этой жесткости[11]. Чего не может вынести г-н Бади, так это прикованности к непостижимому желанию его предков, навязанному ему его рождением в культуре, которая кажется радикально гетероклитической. Его душит непостижимость «нереализованного бытия», его собственной потенциальности. Он стремится посредством самоубийства избежать не фактических ограничений, которые налагает его культура, а переполненного пространства, в котором он оказывается связанным ее нечитаемым императивом.
Фрагмент из книги Джоан Копжек «Облако: Между Парижем и Тегераном. Киорастами / Корбен / Лакан» (Joan Copjec Cloud: Between Paris and Tehran, Kiarostami/Corbin/Lacan. The MIT Press, 2025).
[1] Levinas E. On Escape. Stanford University Press, 2003. P. 52.
[2] Я также полагаю, что мы должны обратиться к арабо-исламской философии в поисках теории «незавершенного прошлого». См., например, «Пролог» Анри Корбена к его исследованию исламской философии в книге «Духовное тело и небесная земля: от зоровастрийского Ирана до шиитского Ирана» (Princeton University Press, 1955): «Наши авторы предполагают, что если бы наше прошлое было действительно тем, чем мы его считаем, то есть завершенным и закрытым, это не было бы основанием для таких яростных дискуссий. Они предполагают, что все наши акты понимания являются лишь многочисленными возобновлениями, повторениями событий, которые все еще не завершены» (xv).
[3] В книге «Truth and Singularity: Taking Foucault into Phenomenology» (Kluwer Academic Publishers, 1999) Руди Вискер использует эту же фразу в соответствии с определением Лаканом тревоги как состояния «не без объекта». Придя к теме стыда через проблематизацию тревоги, Вискер предлагает похожую на мою теоретизацию тревоги, хотя он и не сосредоточен на проблеме наслаждения, jouissance. Историю парадоксальной идеи неукорененного корня можно проследить вплоть до обсуждения Хайдеггером воображения в его книге о Канте.
[4] Лакан Ж. Семинары. Книга 7. Этика психоанализа. М.: Гнозис, 2006. С. 75.
[5] Керкегор С. Понятие страха. М.: Академический проект, 2014. С. 186.
[6] Лакан Ж. Семинары. Книга 8. перенос. М.: Гнозис/Логос, 2019. С. 330.
[7]. «Если … писать … становится трудно из-за невротического торможения, то анализ объясняет причину этого явления слишком сильной эротизацией выполняющих эту функцию органов — пальцев… Я как функция органа терпит повреждение, если его эрогенность, его сексуальное знание увеличивается. Этот орган ведет себя в таком случае — если решиться на несколько рискованное сравнение,— как кухарка, которая не хочет больше работать у плиты, потому что хозяин дома завязал с нею любовные отношения» (Фрейд З. Страх. М.: Современные проблемы, 1927.)
[8] Там же.
[9] См. Нанси Ж.-Л. Очевидность фильма: Аббас Киорастами. М.: Гараж, 2021.
[10] Ciment M., Goudet S. Une approche existentialiste de la vie // Positif, № 442 (December 1997), P. 85. Также цитируется в Goudet S. Le Goût de la cerise … et la saveur de la mure // L’Avant Scène, №. 471 (April 1998). P. 1.
[11] См. Лакан Ж. Семинары. Книга 6. Желание и его интерпретация. М.: Гнозис/Логос, 2021.