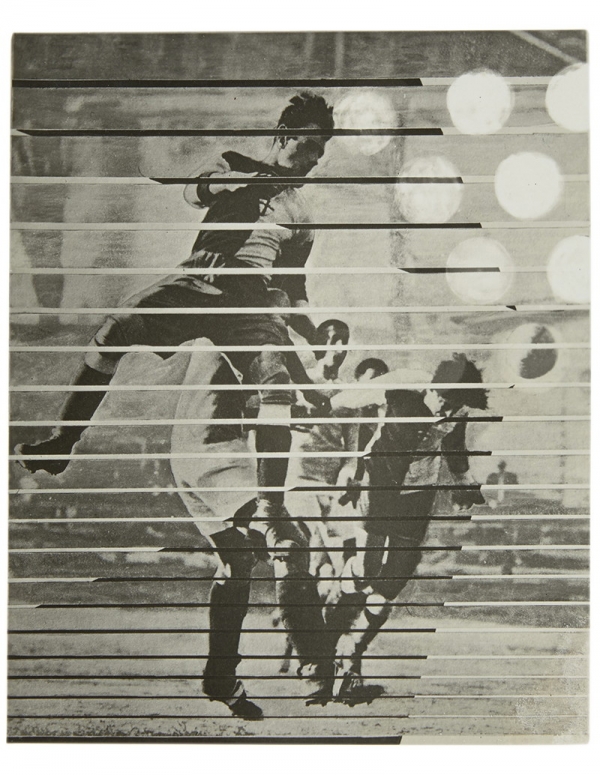Треквартисты культуры
Многие люди из современной художественной и культурной среды спешат отмахнуться от футбола и спорта в целом. Они говорят: «Разве вы не видите, что спорт насквозь реакционен, в нем правят расисты, националисты, он погряз в коррупции, спорт стал инструментом для отмывания диктаторами и олигархами?» И, конечно, все это в корне не неверно..
И нисколько не затрагивает сути спортивных состязаний. Футбол[1] служит объектом захвата этими силами именно из-за своей аффективной интенсивности, из-за того, как он резонирует с миллионами, из-за драматических событий, которые он позволяет людям переживать. Как утверждает Габриэль Кун в книге «Футбол против государства», инструментализация футбола не имеет ничего общего с самим футболом, а скорее со склонностью сильных мира сего «инструментализировать всё, включая спорт, искусство и потребительскую культуру»[2]. Футбол важен именно благодаря этому стремлению капитала инструментальному захвату. Футбол, как сказал Дмитрий Шостакович, — это балет масс. Это всегда уже определенная эстетика. У нее есть свой «андеграунд», собственные формы потребления, о чем могут рассказать Стефано Харни и Фред Моутен, когда речь идет об общении на трибунах или наблюдении за матчем в пабе[3]. Это хореография коллективного желания, театр мечты, драматургия, разворачивающаяся на протяжении девяноста минут. Сам Шостакович поставил подобное непосредственно в балете «Золотой век» (1930), где футбол становится инструментом, посредством которого разыгрываются ставки фашизма и антифашизма, преломленные через культурную и политическую призмы. В этом смысле футбол всегда был больше, чем просто игра. Забыть об этом — значит забыть, что игра уже является формой искусства, уже полем политики, уже схваткой воображения[4].
Короче говоря, связь между искусством и футболом не так уж и слаба. И то, и другое требует избытка образности: видеть не только то, что есть, но и то, что может быть. Оба работают посредством коллективного аффекта, мобилизуя толпы, формируя атмосферу и порождая мифы. Игрок, который исполняет пас под невозможным углом, близок к художнику, который меняет восприятие, меняя общепринятые границы реальности. Но оба акта несводимы целиком к их исполнению; они резонируют в отголоске, которые они вызывают у свидетелей. И всё же, искусство и футбол — это также территории изоляции, коммерциализации и зрелища. Стадионы и галереи — это архитектуры контроля, созданные для привлечения внимания и извлечения прибыли из желания. Следовательно, обе сферы практики порождают модальности протестной организации — будь то пространства, управляемые художниками, и коллективное производство искусства, или антифашистские футбольные клубы и «реляционные» стили игры[5].
Учитывая это все, я совсем не удивился, когда в августе текущего года манчестерская «Factory International» организовала выставку «Football City, Art United». Куратором выставки выступил Ханс Ульрих Обрист (совместно с выдающимся испанским полузащитником Хуаном Матой). На выставке футболисты и художники объединились для создания новых совместных работ: антифашистский герой «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона и Райан Гандер, японский полузащитник Синдзи Кагава и Чикю Но Осакана, футболистка Элла Тун и художественный коллектив Keiken и др. Но мне оставалось только гадать, что такое обрамление — футбол как искусство, искусство как футбол — делает возможным и что оно может нам обещать. Кураторский стержень проекта вертится на фигуре треквартисты: креативного полузащитника-плеймейкера, располагающегося под нападающими. Не будучи ни полузащитником (главным в структуре на поле), ни нападающим (тем, кто завершает работу, забивая голы), треквартиста — это не просто позиция, а скорее зона возможностей. Именно они видят игру иначе, предвосхищают неявные перемещения игроков и мяча. Выставка предполагает, что эта роль может стать метафорой для концептуализации того, как искусство и футбол могут столкнуться: художник как плеймейкер, перераспределяющий внимание, перестраивающий ритмы зрительского восприятия, предлагающий пас в ещё незримое пространство. Но что, если мы отнесёмся к этому серьёзно — не как к метафоре, а как к методу? Что, если, как многие до меня, мы начнём с представления о футболе как о массовой хореографии?
Трехсторонний футбол был придуман датским ситуационистом Асгером Йорном, чтобы объяснить его концепцию триолектики, которая представляла собой усовершенствование марксистской концепции диалектики, а также чтобы разрушить традиционное представление о футболе.
Футбол как посредник
Спросить, чему искусство и футбол могут научиться друг у друга, – значит также спросить, как каждый из них может разучиться и как они могут саботировать свой собственный успех. Возможно, более насущный вопрос заключается не в том, как искусство и футбол взаимодействуют под знаком «творчества», а в том, как они оба отвергают условия, которые сводят творчество к зрелищу. Прогуливаясь по выставке с сыном, я ощущал напряжение между этими возможностями. Для него футбол по-прежнему остаётся изобретаемым на ходу языком, полем становления, где воображение может разыграться безгранично. Для институции (будь то музей или ФИФА) он рискует превратиться в вектор культурного брендинга, новый источник аффектов, подлежащих монетизации. Таким образом, задача заключается в том, сможет ли функция треквартисты, надежда на творческую игру, вырваться за пределы своих ограничений, и сможет ли странная встреча искусства и футбола открыть новые линии перехода в более широком поле общественного воображения. Если угодно, называйте это Рансьером на футбольном поле.
В моменты ограничений, неопределенности или политических кризисов связь между историей футбола и искусством становится более очевидной. Художественные модальности переосмыслили игру, привнеся в её пространство новые формы политики и эстетики, преобразив матчи, трибуны и стадионы. Тактические инновации, культура болельщиков, низовая организация и художественные эксперименты регулярно сливались воедино, превращая футбол не просто в зрелище, но и в среду, в которой можно было репетировать новые формы жизни, солидарности и сопротивления. В таком коротком эссе невозможно проследить весь архив подобных жестов, охватывающий десятилетия, континенты и бесчисленные пересекающиеся течения активизма, искусства и спорта, но каждый подобный пример преподносит уроки импровизации, коллективного решения и морального небезразличия — доказательство того, что футбол может быть чем-то большим, чем просто сумма голов, очков и медийных нарративов.
В данном контексте достаточно лишь указать на несколько таких примеров, чтобы обозначить ресурсы, которые можно использовать, чтобы взглянуть на футбол по-другому, и увидеть, что возможно, когда к игре относятся не только как к развлечению или товару, но как к живому полотну для экспериментов, солидарности и критики. Обращая внимание на эти следы, мы учимся распознавать скрытый потенциал в структурах, ритмах и пространствах спорта, потенциал, который может быть активирован в наше время теми, кто готов читать между строк и творчески действовать на стыке футбола, культуры и политики.
C выставки Football City, Art United, Манчестер, 2025. Совместное куратороство Хуана Маты, Ханса Ульриха Обриста и Джош Вилльдигг.
Военная машина играет в футбол
Я вырос в американском пригороде в 1980-х и 90-х годах и не интересовался ни футболом, ни еще каким-либо другим видом спорта. Для меня спорт казался скучным, консервативным, реакционным и частью культурной формации, которая, казалось, была нацелена на дисциплину тела и притупление ума. Вместо этого я дрейфовал по второстепенным течениям: маргинальному искусству, малоизвестным субкультурам, философии, радикальной политике. И все же, десятилетия спустя, уже в Великобритании, я обнаружил, что являюсь отцом сына, который полностью помешался на футболе. Его эмоции, в отличие от моих в его возрасте, вращаются вокруг матчей, игроков и счета счетов. Следуя за ним, я обнаружил, что изучаю не только правила игры, но и историю антифашистских трибун на стадионе, то, как музыка и искусство долгое время влияли на эту прекрасную игру, и время, когда футбол был сценой для коллективного изобретения в той же степени, что и для корпоративного зрелища.
Почему же тогда идея объединения этих двух миров кажется какой-то новой, что, пожалуй, стало ключевой, пусть и невысказанной вслух, предпосылкой, заложенной в основу выставки «Football City, Art United»? Как будто искусство и футбол уже не были десятилетия (а может, и века) и без того связаны. Как будто поле уже не служило площадкой для поэтического жеста, мифического действа или политической борьбы. Действительно, есть реальный риск в том, чтобы представлять искусство и спорт как отдельные, герметично изолированные миры, а затем натужно подрывать это различие. Это жутко похоже на то, как каждое авангардное течение на протяжении XX века ощущало потребность ритуально настаивать на полной разобщенности искусства и повседневной жизни, чтобы затем героически соединить их, словно в первый раз. Этот жест, повторяемый до изнеможения, в конечном итоге воспроизводит именно то, что он якобы разрушает: избитую версию культурного разрыва между высокой и низкой культурами, который воспроизводится лишь для того, чтобы казаться радикальным в его преодолении. Мы переживаем момент, когда популизм и неофашизм не маячат где-то на периферии, а, напротив, стремительно набирают силу, если уже не консолидировались, в США и во многих других странах мира. В этом контексте наше отношение к взаимосвязи искусства и футбола — не праздное любопытство, а вопрос политики.
Возьмём, к примеру, стартовый матч сборной Италии на чемпионате Европы 2020 года (сыгранном в 2021 году из-за пандемии COVID-19). После убедительной победы Италии над Турцией со счётом 3:0 итальянский журналист Фабио Каресса с явной гордостью заявил: «Мы — военная машина». Эта фраза быстро распространилась, её использовали для описания слаженности командной игры. С одной стороны, это была просто метафора: изящное выражение, чтобы отметить, насколько хорошо одна группа из примерно двадцати футболистов и тренерского состава выступила против другой. Но что, если мы воспримем это иначе? Что, если мы воспримем это буквально — или, по крайней мере, теоретически буквально — в смысле «военной машины» Делёза и Гваттари? Они использовали этот термин для описания не государственного аппарата, нацеленного на разрушение, а формы внешней по отношению к государству, силы, действующей на ровном пространстве. Переосмысливать футбольную команду таким образом — значит рассматривать её не столько как инструмент национального представительства, сколько как коллективное единство желаний, аппарат эксперимента, как организм, одновременно действующий и в рамках, и против ригидности государственного захвата. Если это так, то, возможно, антифашистские футбольные культуры с их баннерами, кричалками и эстетикой можно рассматривать как современные военные машины: не армии, а формы коллективного сопротивления, которые изобретают пространства трансформации и обживают их. Армию, потенциально способную сражаться против военной машины государства, а не за неё.
Эль Лисицкий. Футболист, 1926.
Рабочие, изгнанники и политика игры
Пшемыслав Строжек проделал неоценимую работу по раскопкам погребенных историй, где спорт и авангард когда-то двигались в тандеме, выявляя точки пересечения, которые традиционные нарративы спортивной культуры в значительной степени игнорировали[6]. Его скрупулезное исследование Международной рабочей олимпиады 1920-х и 30-х годов, организованной профсоюзами и социалистическими партиями, проливает свет на период, когда спорт был не просто сценой для националистического зрелища или зарождающегося механизма корпоративного спонсорства, но вместо этого мог рассматриваться как инструмент социального воображения и коллективного освобождения[7]. В этом контексте рабочая олимпиада была преднамеренным контрапунктом фашистской кооптации спортивных культур и пространством, в котором тела могли тренироваться не ради милитаристско-миметической дисциплины, а ради солидарности, воспитания стойкости и наработки коллективного опыта. Благодаря этим событиям, фестивалям и встречам открывался целый мир, в котором движение и труд, игра и политика могли быть тесно переплетены, где формирование тела было неотделимо от формирования общества и сознания. Однако сегодня эти эксперименты с физической культурой практически полностью стерты из общественной памяти, затмеваемые триумфальными нарративами современных Олимпийских игр как главной кульминации мирового спорта. Работа Строжека напоминает нам, что это стирание не неизбежно и не закономерно, и что история спорта гораздо богаче и более радикально изобретательна, чем можно было бы предположить, исходя из привычных нарративов о медалях, рекордах и зрелищах.
И всё же, даже будучи скрытыми, такие истории оставили следы, видимые в тактической ДНК самого футбола. Эволюцию игры за последнее столетие можно рассматривать не только как историю спортивного мастерства и институционального развития, но и как историю бегства, изгнания и изобретательной адаптации, во многом обусловленные необходимостью избежать фашизма. Тактические революции, зародившиеся в кафе и клубах Вены, Будапешта и других городов Центральной Европы в межвоенные годы, были плодом деятельности еврейских интеллектуалов и тренеров, которые рассматривали футбол как пространство для экспериментов, мышления и коллективного поиска. Они подвергали сомнению жёсткие иерархии традиционной игры, изучали динамику игры и придумывали позиционные схемы, которые позволяли импровизировать, творить и более глубоко управлять пространством и темпом игры. Когда набравший силу фашизм вынудил этих тренеров и интеллектуалов отправиться в изгнание, их идеи путешествовали вместе с ними. Как подробно описывает Джонатан Уилсон в своей книге «Переворачивая пирамиду», эта диаспора несла с собой инновационные подходы по всей Европе, а в конечном итоге и в Южную Америку, и за ее пределы, закладывая основу преобразований, которые впоследствии изменили облик игры во всем мире[8]. Венгерские инсайды, замысловатые системы игры в короткий пас у австрийцев и тактическая гибкость, впервые родившаяся в венских кафе, стали нитями широкого полотна, повлияв на новое представление о футболе как о живой форме искусства. Распространение этих идей было связано с необходимостью выживания, требованию взаимодействовать с новыми социальными и культурными контекстами и этическим импульсом поиска таких форм игры, которые ценили бы интеллект, сотрудничество и тонкость выше грубой силы или авторитарной дисциплины. Тактическая ДНК игры все еще несет на себе отпечатки этих мыслителей-изгнанников, чьи нововведения напоминают нам, что история футбола неотделима от всей истории миграции, преследований и культурной трансформации.
Вспомним Густава Шебеша, который в 1950-х годах разработал то, что впоследствии стало известно как «социалистический футбол» – философию игры, основанную на равенстве во всей команде: никакого отдельного игрока, а скорее коллектив, где гибкие, взаимозаменяемые и динамичные роли у всех игроков. Этот подход предвосхитил то, что позже станет известно как «тотальный футбол»[9]. При Шебеше венгерская сборная стала почти мифической силой, олицетворяющей кооперативное, мобильное, горизонтальное распределение обязанностей. Эти генеалогии напоминают нам, что тактика (будь то спортивная или политическая) никогда не бывает нейтральной. Это не просто технические корректировки для максимизации эффективности, а кристаллизация политических и культурных сил.
Ещё одна забытая генеалогия всплывает в трудах Франсуа Тоскеля, испанского психиатра, бежавшего от фашизма во Францию и разработавшего в знаменитой лечебнице Сент-Альбан то, что впоследствии стало известно как институциональная психотерапия[10]. Подобно тому, как золотой век дунайского футбола закончился вместе с набравшим силу фашизмом, что и привело к распространению его принципов по всему миру, Тоскель учился у бежавших из Вены психиатров. Футбол здесь не был случайностью; он стал методом, практикой, благодаря которой пациенты и персонал могли по-новому взаимодействовать друг с другом. Поле стало пространством общения, средством реорганизации власти внутри учреждения, ослабляя жёсткие иерархии, диктовавшиеся психиатрической клиникой. Франц Фанон, также учившийся в Сент-Альбане, усвоил эти уроки[11]. Позже, в клинике Блида-Жуанвиль в Алжире, Фанон разбивал футбольные поля для своих пациентов, развивая идею Тоскеля о том, что игра может служить терапевтическим средством, способом переосмысления организма, эмоций и отношений. Здесь футбол становится практикой: коллективным экспериментом в области психического здоровья, борьбы с колониализмом и новых форм субъективности.
Эта тема никуда не исчезла. Сегодня мы видим её возрождение в общественных футбольных инициативах, разработанных для беженцев, просителей убежища и людей, переживших травму. Игра используется как средство борьбы с изоляцией, как средство для обеспечения социальной помощи, а также как средство создания общего языка там, где другие формы общения дают сбой. Дни матчей могут обеспечить ощущение устойчивости и последовательности в жизни, которая в противном случае была бы крайне нестабильной. Проекты футбольной терапии – будь то в зонах военных действий, лагерях беженцев или на городских окраинах – несут в себе ту же интуицию: коллективный ритм игры способен переплести психическую и социальную ткань, движение и воображение вместе способны открыть проходы там, где одни только слова оказываются бессильны. Это никакая не романтизация. Футбол может с такой же лёгкостью усугубить те самые иерархии, которые он порой разрушает. Те же структуры, которые способствуют ощущению укорененности, могут также усиливать изоляцию, дисциплину и насилие. Но игнорировать его терапевтический потенциал или полностью уступить территорию реакционным силам – значит недооценивать его силу. Аффективная сила игры — её способность синхронизировать тело и разум — не может не быть мобилизованной. Вопрос в том, ради чего именно.
Подобное представление особенно актуально в итальянском контексте 1970-х годов, когда автономизм – широкомасштабное общественное движение, охватившее бесчисленные организации и спровоцировавшее стихийные акции протеста – выплеснулись прямо на стадионы. Ультрас (хорошо организованные группы футбольных болельщиков), которых сегодня карикатурно изображают как «аполитичных» хулиганов или реакционную толпу, изначально формировались под влиянием радикальной энергии крайне левых. Они были не просто группами болельщиков, а экспериментами в области коллективной организации и самовыражения. Они придумывали лозунги, делали баннеры и организовывали ритуалы, превращавшие трибуны в своего рода театр контрвласти[12]. Например, Антонио Негри был одним из первых организаторов ультрас «Милана», способствуя формированию культуры, в которой страсть к игре была неотделима от приверженности коллективным действиям и горизонтальной политике. Со временем, по мере того как культура стадионов превращалась в товар, а изначальные энергии деполитизировались, эти формирования становились все более оторванными от своих корней, но их генеалогия по-прежнему демонстрирует скрытый политический потенциал, заложенный в футболе.
Паоло Сольер, как игрок и писатель, предлагает особенно яркую артикуляцию этого пересечения в своих мемуарах «Бить ногами, плеваться и бить головой»[13]. Сольер играл за несколько итальянских клубов, оставаясь при этом приверженным крайне левой политике и рассматривая футбол как пространство оодновременно сопротивления и просвещения. Для него футбольное поле никогда не было нейтральным: оно могло быть пространством для утверждения достоинства, проявления солидарности и повседневной политики. Его принадлежность к автономным левым очевидна не только благодаря его персональной поддержке борьбы трудящихся или участии в низовой организации, но и в его взгляде на саму игру, которую он рассматривал как средство коллективного разума, стратегического мышления и эмоциональной разрядки. Его контракт в «Перудже» предусматривал, что за каждый забитый им гол клуб должен был оформить подписку на радикальную газету «Avanguardia Operaia».
Обращать внимание на эти радикальные генеалогии – значит видеть, что любая телесная социальная практика никогда не бывает лишь тем, чем кажется на первый взгляд. Как и многие социальные представления, футбол – это пространство, где сталкиваются психическое здоровье, коллективная эмоция, радикальная политика и авторитарный захват. Он может быть и убежищем, и полем битвы, местом исцеления и травмы, театром, где движущееся тело резонирует с политическим телом. От итальянских стадионов 1970-х до полей Центральной Европы, от рабочих олимпиад до кафе Вены и Будапешта, футбол постоянно воплощает как возможности, так и противоречия человеческого общежития, предлагая призму, через которую можно увидеть, как художественная культура, идеология и физическая культура переплетены воедино.
Низовые инфраструктуры
Когда голландский футболист Рууд Гуллит в 1987 году завоевал заветный «Золотой мяч» (он же «лучший игрок года»), он воспользовался моментом, чтобы посвятить награду Нельсону Манделе, который в то время всё ещё находился в заключении, и борьбе с апартеидом. Этот жест символизировал широкое понимание спорта как неотделимого от общественного и политического сознания, как бы циничные политики ни пытались утверждать, что спорт и политика не связаны, когда это соответствует их неоколониальным пристрастиям. Всего несколькими годами ранее Гуллит записал песню «South Africa» с регги-группой «Revelation Time», предоставив свое имя для борьбы с апартеидом средствами музыки. Тем самым он превратил футбол из зрелища индивидуальных достижений в вектор, посредством которого могут слиться политическая солидарность и культурное самовыражение, продемонстрировав, что зрелище спорта может быть использовано для усиления голосов и идей за пределами поля. В своей книге «Как смотреть футбол» Гуллит начинает с обманчиво простого предписания: чтобы по-настоящему понять футбол, нужно научиться отрывать взгляд от мяча[14]. Драма, настаивает он, разворачивается в пространстве, которое зачастую игнорируется зрителями и камерами: незаметные рывки, смена позиций, тактическая геометрия, которая формирует течение игры задолго до появления мяча в конкретном месте. Здесь футбол становится уроком внимательности, терпения и пространственного воображения. Самое важное часто происходит на грани видимости, в движениях, которые ускользают от непосредственного внимания, но определяют возможности атаки и защиты, координации и развала.
Подобный взгляд имеет широкие последствия, выходящие за рамки тактического анализа футбола. Подобно тому, как активизм Гуллита напоминает нам о том, что спортивная слава может быть использована в политических целях, его акцент на внеигровых аспектах игры побуждает нас обращать внимание на невидимые течения, структурирующие как спортивные, так и социальные отношения. В футболе, как и в общественной борьбе, решающие силы редко оказываются в центре внимания; это тонкие расстановки сил, стратегические прогнозы, коллективные ритмы, которые влияют на результат ещё до того, как процесс проявится. Гуллит воплощает образ спорта, в котором блеск измеряется не только голами или наградами, но и осознанностью, дальновидностью и способностью действовать солидарно с силами, превосходящими его собственные, – подчеркивая неразрывные связи между полем и остальным миром.
Взаимосвязь футбола, искусства и политики во многом схожа. Подобно тому, как лёгкий мазок кисти или ненавязчивый музыкальный мотив могут изменить восприятие зрителя, небольшие тактические корректировки и незаметные проявления солидарности на поле способны преобразовать логику игры. Чтобы это осознать, требуется изменение зрительского восприятия: развитая восприимчивость к тому, что скрыто, что формируется и что ещё может проявиться. В этом смысле политическое и эстетическое разделяют общую структурную логику. И то, и другое разворачивается в сетях отношений, а не через отдельные героические акты. И то, и другое требует внимания к ритму, согласованности и потенциалу. И то, и другое предполагает, что истинная сила заключается в способности организовывать, реагировать и создавать условия, в которых могут возникнуть коллективный разум, свобода и новые формы жизни. Футбол в этом свете становится не только пространством игры, но и линзой, через которую можно постичь динамику самого общественного воображения.
Мы можем наблюдать подобное на свежих примерах, которые выходят за рамки хорошо отрепетированных заголовков про спорт и политику. Возьмем, к примеру, футбольный клуб Clapton Community Football Club в Восточном Лондоне, отколовшуюся от ФК «Клэптон» команду, возникшую из-за разочарования местных болельщиков, недовольных руководством своего клуба. С самого начала КФК «Клэптон» позиционировал себя как место организации антифашистского сообщества. Их форма, дизайн которой разработан в память об Испанской республике, стала неожиданно культовой и продавалась в таких количествах, что выручка позволила людям выкупить для клуба землю, что стало почти чудом в гиперкоммерциализированном ландшафте лондонской недвижимости. Здесь футбол функционирует как культурная инфраструктура, посредством которой могут быть построены новые формы коллективной социальной жизни. Пример «Клэптона» перекликается с широким рядом клубов, где болельщики мобилизовались вокруг антирасистских и антифашистских принципов.
В Германии футбольный клуб «Санкт-Паули» давно известен своей радикальной фан-культурой, где левые политические взгляды, панк-музыка и антидискриминационный активизм являются неотъемлемой частью повседневной жизни. В Бристоле «Истон Ковбойз» и «Ковгёрлз» аналогичным образом иллюстрируют слияние футбола и политической активности. Возникнув из анархистской Федерации классовой войны в 1990-х годах, «Истон Ковбойз» построили культуру, основанную на антикапиталистических, антифашистских и DIY-принципах. Их матчи способствуют созданию пространства, где политическое сознание неотделимо от игры. Возможно, самое поразительное, что всемирно известный уличный художник Бэнкси когда-то играл у них на воротах, малоизвестный факт, который подчеркивает, как эти низовые культуры тихо циркулируют, вне мейнстримного признания, даже когда они пересекаются с мировыми культурными деятелями[15]. Недавно развернулась глобальная кампания «Покажите Израилю красную карточку», призывающая к отстранению Израиля от членства в ФИФА и УЕФА до тех пор, пока страна не начнёт соблюдать международное право и не прекратит нарушения прав палестинцев. Эта кампания, ставшая частью широкого движения «Бойкот, изъятие инвестиций и санкции», мобилизует спортсменов, болельщиков и правозащитников на освещение того, как спорт может быть соучастником систем угнетения. Используя дисциплинарную символику футбола, кампания превращает красную карточку в жест глобальной солидарности и ответственности[16].
В Италии такие клубы, как «Ливорно» и «Бари», исторически привлекали ультрас, разделяющие коммунистические и антифашистские традиции. Такие звезды футбола, как Кристиано Лукарелли, служат примером этого переплетения футбола, политики и культуры. Лукарелли, всю жизнь болевший за «Ливорно», на протяжении всей своей карьеры неизменно выдвигал на первый план левые политические взгляды, используя свое имя для выражения солидарности с антифашистскими и рабочими движениями. Его деятельность находит отклик в широких культурных сетях, включая проект «Лютер Блиссет» – коллективный псевдоним (в честь легендарного нападающего «Уотфорда»), взятый художниками, писателями и активистами в 1990-х годах для того, чтобы бросить вызов господствующим медианарративам и исследовать экспериментальные формы социального активизма. Благодаря этой связи футбол связан с широким авангардным и анархистским движением.
Во всем мире существует множество небольших низовых организаций, которые приходят на трибуны с баннерами, речевками и ритуалами, которые открыто выражают протест против расизма, ксенофобии и авторитаризма. Группы болельщиков не просто украшают трибуны: они создают сети взаимопомощи, организуют культурные мероприятия, проводят кампании по социальным вопросам и превращают обычные матчи в поводы для политического просвещения и творческого самовыражения. Эти примеры наглядно демонстрируют, что игра может служить площадкой для творчества, где хореография движений на поле пересекается с хореографией идей, этики и коллективных действий за его пределами.
Урок всего этого не в том, что футбол внезапно, словно в первый раз, пересекается с искусством и политикой. Более радикальное утверждение заключается в том, что футбол всегда был эстетической формой, политической сценой и средством коллективного творчества. На карту поставлена способность воспринимать то, что уже далеко от мяча, находится на периферии внимания, и усиливать это, превращая в нечто преобразующее. Именно здесь фигура треквартисты возвращается как нечто большее, чем просто метафора. Визионер-плеймейкер не просто дирижирует из центра поля; он видит линии паса там, где другие видят заторы, кто представляет себе пространства, которых ещё не существует, кто переводит шум толпы в ритм творчества. Футбол — это никогда не только футбол. Это всегда место, где сходятся тела, где рассказываются истории, где создаются и разрушаются сообщества. В эпоху возрождающегося фашизма и авторитарного популизма признать игру в футбол без мяча — как эстетику, как политику, как коллективную терапию — значит понять, как даже то, что кажется просто игрой, может служить полем сопротивления, тренировочной площадкой для воображения и пространством становления иным.
[1] По иронии судьбы, вопреки распространённому мнению, «соккер» изначально был английским термином, сокращением от «association football», появившимся в результате лингвистических сокращений, которые были популярны в Кембридже и Оксфорде в конце XIX века.
[2] Kuhn G. Soccer vs. the State: Tackling Football and Radical Politics. PM Press, 2019. P. 59.
[3] Harney S., Moten F. The Undercommons: Fugitive Planning & Black Study. Autonomedia, 2013.
[4] Lee C. The Defiant: A History of Football Against Fascism. Pitch Publishing, 2022.
[5] Подробнее см. 19 выпуск подкаста «Minor Compositions» «Случайные ассамбляжи реляционного футбола», где представлено серьезное обсуждение темы с тренером футбольной академии Джейми Хэмилтоном.
[6] Sport and the European Avant-Garde (1900–1945) ed. Przemysław Strożek and Andreas Kramer. Brill, 2022.
[7] Strożek P. Picturing the Workers’ Olympics and the Spartakiads: Modernist and Avant-Garde Engagement with Sport in Central Europe and the USSR, 1920–1932. Routledge, 2023.
[8] Wilson J. Inverting the Pyramid: The History of Football Tactics. Orion Books, 2014.
[9] Wilson J. The Names Heard Long Ago. Blink Publishing, 2019.
[10] Psychotherapy and Materialism: Essays by François Tosquelles and Jean Oury. ed. Marlon Miguel and Elena Vogman. ICI Berlin Press, 2024.
[11] Robcis C. Disalienation: Politics, Philosophy, and Radical Psychiatry in Postwar France. University of Chicago Press, 2022.
[12] Jones T. Ultra: The Underworld of Italian Football. Head of Zeus, 2019.
[13] Sollier P. Kicks, Spits, and Headers: The Autobiographical Reflections of an Accidental Footballer. Autonomedia, 2022.
[14] Gullit R. How to Watch Football. Viking, 2016.
[15] Simpson W., McMahon M. Freedom Through Football: The Story of the Easton Cowboys and Cowgirls: Inside Britain’s Most Intrepid Sports Club. Tangent Books, 2012.
[16] Blincoe N. More Noble Than War: The Story of Football in Israel and Palestine. Constable, 2019.